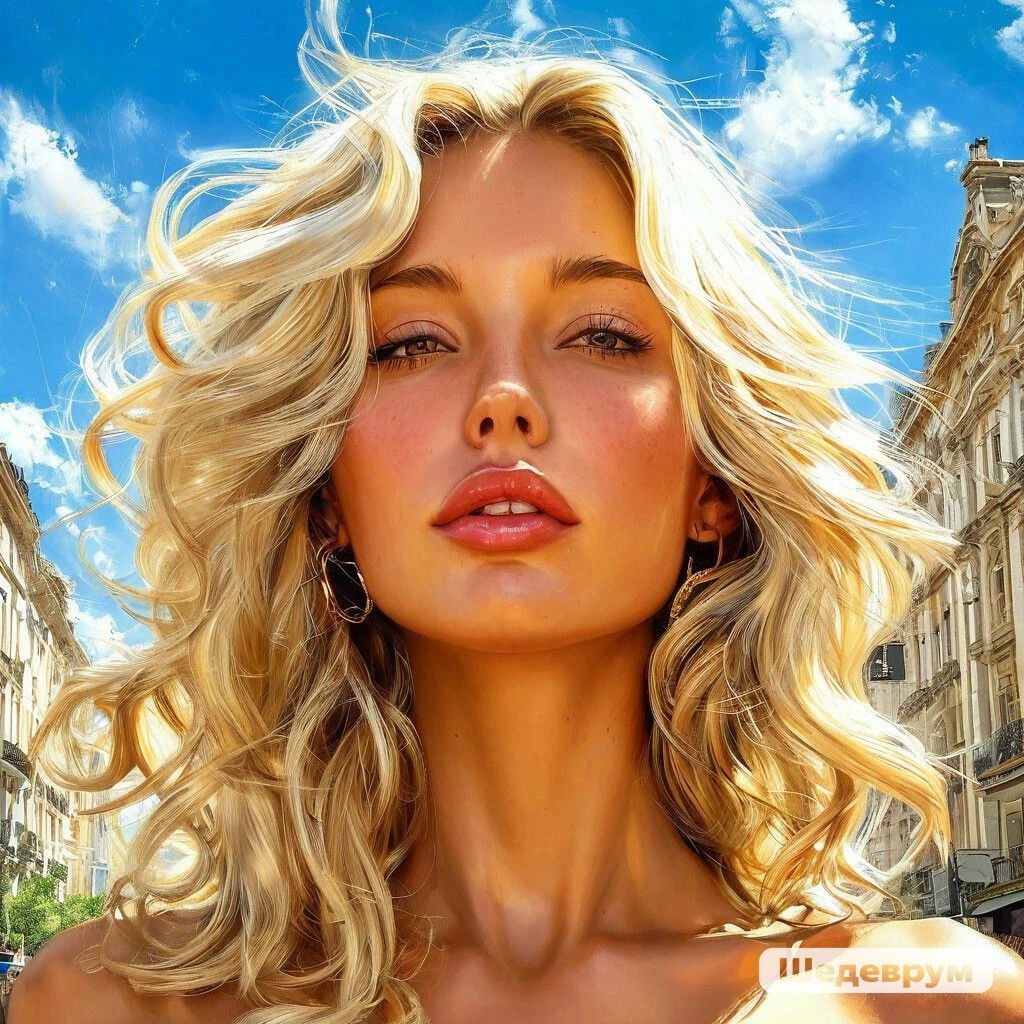Источник: https://aurelien2022.substack.com/p/the-day-after
В ряде эссе речь шла о последствиях войны в Украине для западных государств, в особенности для европейцев. Автор писал о квазирелигиозном рвении, которое лежит в основе очернения России как «анти-Европы», а также о более широком традиционном страхе перед размерами и мощью России. Очевидно, сейчас не существует реального понимания того, насколько мы близки к появлению на континенте доминирующей военной мощи, которой европейцы не смогут даже попытаться что-то противопоставить. Между тем исторический противовес Советам — Соединенные Штаты — кажется все менее заинтересованным и, во всяком случае, менее способным на подобное.
Пришло время обновить эти мысли и попытаться заглянуть в то, что представляется весьма неприятным будущим для Европы, — с которым её лидеры не имеют ни малейшего представления о том, как справиться, ни на институциональном уровне (в Брюсселе), ни на уровне национальных государств. Последнее замечание крайне важно, потому что мы вступаем на совершенно неизведанную территорию, где жалкое поколение европейских политических лидеров и бюрократов сталкивается с интеллектуальными, политическими и даже моральными проблемами, которые на данный момент у них нет способности даже понять (не говоря уже о том, чтобы с ними справиться) и которые, что очень важно, будут разделять Европу и дальше.
Европа — маленький, многолюдный, исторически жестокий континент, точное определение и границы которого зависят от задаваемого вопроса и периода, о котором мы говорим, но правители и народы которого исторически обращались к военной силе и военным союзам для ведения войн и поддержания мира. Нации, которые доминировали в определенные периоды (Испания, Франция, Пруссия…), как правило, взращивали оппозицию, но национальное соперничество накладывалось и смешивалось с соперничеством и более высокого уровня (Папа против императора, французский король против императора, католики против протестантов), и более низкого уровня (регионализм, национализм, этническая неприязнь, торговое соперничество, несоответствие границ и народов) в головокружительной и постоянно меняющейся картине. (Большинство книг о Тридцатилетней войне начинается с вводной главы, в которой написано, насколько всё было сложно и насколько много было других факторов, помимо религии).
По этой причине «Европа» редко выступала как единое целое: внутренняя ревность и соперничество приводили к тому, что проблемы одной нации могли стать преимуществом для другой: так, например, заметно отсутствие французов в европейской коалиции, боровшейся с экспансией Османской империи. С 1945 года мы забыли о том, что привычка Европы создавать больше истории, чем она может употребить, и бесконечные исторические, культурные и территориальные споры, породившие эту историю, на самом деле не исчезли. Они просто были подавлены и замалчивались. Подобно травмирующим детским воспоминаниям, они все ещё существуют и ждут своего часа, чтобы выплыть на поверхность.
Вторая мировая война велась в соответствии с этими предпосылками. По сути, она стала следствием фундаментальной проблемы европейской политики с XIX века — границ, не отражающих распределение этнических и национальных групп. (“Самоопределение народов” оказалось сложнее, чем кто-либо ожидал). Стало ясно, что нельзя вот так просто заменить многонациональные империи аккуратными национальными государствами, и попытки сделать это вызвали гнев — плюс требования изменить образовавшиеся границы. В традиционной манере Германия попыталась вернуть территории, которые считала своими, с помощью угроз и силы: в привычной манере Британия и Франция пригрозили войной, если она это сделает. Так всё и вышло.
Как автор уже неоднократно подчеркивал, европейская элита вышла из войны измотанной, травмированной и ошеломлённой, понимая, что континент просто не сможет пережить ещё один такой эпизод. Автор уже много раз описывал последовательность событий, которые привели к созданию НАТО, европейских институтов и, в конечном счете, Европейского союза, поэтому нет необходимости воспроизводить все это сейчас. Но в нынешнем контексте важно то, что когда они действительно были нужны (как сейчас), эти институты оказывались слабыми и неприспособленными к ситуации. НАТО было основано на убеждении в наличии общей угрозы, но когда возникли обстоятельства, которые изначально предусматривались, — крупный кризис в Европе с участием России, — оно оказалось в значительной степени бесполезным. И эта ситуация вряд ли изменится, не говоря уже об улучшении. А ЕС был задуман не столько для разрешения внутренних напряжений и противоречий внутри Европы, сколько для их подавления и сокрытия, и уже ясно, что долго так продолжаться не может. Во многих отношениях мы сейчас наблюдаем возвращение к традиционным моделям европейской политики, причем в гораздо большей степени, чем это было в 1989 году, несмотря на все волнения того момента. И это не те модели, которые всем обязательно понравятся.
Однако прежде чем приступить к рассмотрению этих вопросов, автор сперва хотел бы поговорить о фундаментальных характеристиках международной системы, которая обычно остается за рамками учебников по международным отношениям, особенно тех, которые написаны американцами или под влиянием реалистичных (или неореалистичных) догм. Речь о сложности отношений между большими и малыми государствами, а также о том, что делают малые государства, чтобы не оказаться на обочине. Надо сказать, что все попытки объяснить это американцам потерпели неудачу, хотя на самом деле всё не так уж сложно. Но даже если американцы мозгом понимают проблему, они не способны, в силу исторических причин, понять, каково это — быть слабой страной, столкнувшейся со сверхдержавой. Поэтому с должными извинениями перед американцами, которых автор не встречал и которые могут понять подобные вещи, давайте продолжим.
Несмотря на то, что говорят доминирующие теории международных отношений, мир не состоит из унитарных «наций», вечно борющихся друг с другом за влияние и власть и иногда вступающих в войну. И никогда не состоял. Как автор уже неоднократно отмечал, международная система функционирует только благодаря широкомасштабному сотрудничеству, основанному на взаимных интересах. Великие и малые державы могут извлечь выгоду из одного и того же соглашения, даже если их цели диаметрально противоположны друг другу. Мир, по сути, представляет собой гигантскую совокупность диаграмм Венна, где небольшие государства по практическим соображениям часто вынуждены выбирать варианты, которые они предпочли бы не выбирать, потому что альтернативы хуже. Да и более крупные государства иногда оказываются в таком положении. Международные отношения, особенно в сфере безопасности, — это не игра с нулевой суммой.
Но страны, которые не являются врагами и даже могут быть различного рода союзниками, тем не менее, имеют друг с другом сложные отношения, и часто одна из них заметно сильнее. Отношения между Австралией и Новой Зеландией, Нигерией и Ганой или Бразилией и Парагваем не являются конфликтными, но и не являются отношениями равных. Однако после определенного момента дисбаланс сил может стать достаточно серьёзным, чтобы вызывать проблемы и породить чувство незащищенности и хрупкости. В этот момент мудрое правительство ищет противовес, чтобы укрепить свои позиции. Классическим примером на протяжении многих лет была Саудовская Аравия — большое, но слабое государство с серьезными трайбалистскими и религиозными противоречиями. Благодаря коммерческим и военным отношениям с западными странами, закупке западного вооружения и размещению в стране иностранного военного персонала, она превратила западные страны в гарантов собственной безопасности, а этот самый персонал — в заложников в случае нападения.
Но подобная кооптация других стран в свою защиту — обычнейшая стратегия слабых перед лицом сильных. И нужно четко понимать, что мы общаемся не в грубом реалистическом лексиконе угроз и конфликтов. Да, при прочих равных размер и мощь имеют значение, как и готовность использовать их в политических целях, — но в более тонкой манере, чем это часто признаётся. Поэтому такие страны, как Вьетнам, Таиланд и Япония, боятся Китая не в том смысле, что опасаются вторжения и оккупации, а скорее нервничают перед лицом промышленного и военного гиганта на заднем дворе и того давления, которое этот гигант может оказать. Например, на протяжении десятилетий китайцы безжалостно эксплуатировали чувство вины Японии за Маньчжурскую войну, и действительно, «спонтанные» демонстрации в регионе каждый раз, когда японское правительство изменяло несколько слов в учебнике истории, были и до сих пор остаются обычным явлением.
Таким образом, присутствие США в Японии, несмотря на то, что это часто вызывает недовольство, и несмотря на то, что его детали гораздо сложнее, чем публично признаётся, работает отчасти как стабилизирующий фактор в отношениях с Китаем (поскольку спор с Японией — это косвенно и спор с США), а отчасти как попытка гарантировать регион от японского реваншизма. В отсутствие такой гарантии существуют вполне обоснованные опасения, что Япония разработает ядерное оружие, что она может сделать очень быстро, и это не посчитают чем-то полезным. Проблема таких отношений в том, что они скорее замораживают, чем решают основные проблемы, и поэтому в последние годы японский национализм стал более актуальным вопросом, чем многие из нас всегда считали.
Поэтому, как это и было на протяжении всей истории, хорошей идеей будет заставить сверхдержаву почувствовать, что ваша безопасность отвечает её интересам, особенно если вашей собственной безопасности и свободе действий угрожают либо соседи, либо внутренние разногласия и напряженность. Таким образом, идея Вашингтонского договора — вовлечь США в любую конфронтацию между Востоком и Западом в Европе и тем самым изменить политический баланс сил — является традиционным способом исторического решения подобных дисбалансов. Стоит также отметить, что в конце 1940-х годов Европа в экономическом и военном отношении стояла на коленях, и диспропорция с мощью Советского Союза, даже ослабленного войной, была гораздо больше, чем впоследствии. Таким образом, как автор неоднократно настаивал, Соединенные Штаты не «защищали» Европу, а скорее неявно вовлекали себя в любой кризис с Советским Союзом, — а теперь и с Россией,- который мог там возникнуть.
Впервые с 1945 года, а возможно, и впервые с 1917 года, эта ситуация не может восприниматься как должное, и стоит рассмотреть три причины, по которым так вышло. Первая — это позиция самих США. На протяжении всей холодной войны реальный конфликт никогда не был вероятным, и это широко, хотя и молчаливо, признавалось. Однако предполагалось, что в случае любого крупного политического кризиса США окажут политическую поддержку своим европейским союзникам. Отчасти это объяснялось тем, что США видели в Советском Союзе конкурента, а отчасти, и, возможно, главным образом, тем, что Европа была основным экономическим и политическим партнёром американцев, и идея попадания Европы под советское влияние, не говоря уже о доминировании, была совершенно немыслимой. Однако в Европе всегда присутствовало ноющее чувство, что, если кризис дойдет до реальной стрельбы, США заключат двустороннюю сделку с Советским Союзом и уйдут. Американский контроль над системой командования НАТО облегчил бы эту задачу. Поэтому, в частности, американские подразделения были размещены на юго-востоке ФРГ (как можно ближе к СССР), а британская и французская ядерные системы управлялись независимо; логично и французское решение сохранить национальную систему командования для собственной обороны.
Однако после окончания холодной войны всё стало гораздо сложнее, и в разные моменты — в частности, после избрания Буша-младшего в 2000 году — в Европе возникло реальное беспокойство по поводу надёжности трансатлантической связки в условиях кризиса, когда заявленные интересы США сместились на Ближний Восток и в Азию. Если смотреть на ситуацию из Вашингтона, она тоже была непростой, поскольку существовало два основных напряжения, тянущих в разные стороны. С одной стороны, считалось, что Европа в основном стабильна и что такие кризисы, как в бывшей Югославии, могут быть оставлены на усмотрение европейцев, а США будут искать выгоду в другом месте. (Но даже тогда США не смогли оторваться от проблемы и затянули разрешение конфликта как минимум на год). С другой стороны, если бы дела пошли совсем плохо, разве европейцы не обратились бы за помощью к США? Как заявил в то время один американский чиновник, «всегда есть шанс, что вы сделаете что-то, о чем мы пожалеем».
Похоже, что сейчас все эти страхи становятся реальностью. Участие США в украинской саге оказалось катастрофическим, и, несомненно, различные группы в Вашингтоне будут годами, если не десятилетиями, подрезать друг друга, пытаясь свалить ответственность и вину на кого-то другого. Но уже сейчас ясно, что администрация Трампа считает некую разрядку с Россией более приоритетной задачей, чем продолжение “беспроигрышной” войны в Украине. Это не означает, что такая разрядка обязательно возможна, и уж тем более не означает, что она будет грамотно реализована нынешней командой, но это означает, что поддержка Европы никогда не будет таким приоритетом, каким она была раньше.
Второй момент — избыточность НАТО. Конечно, если оценивать успех организации по количеству ее членов, то НАТО ещё никогда не был настолько успешным блоком. Не так давно, в конце концов, эксперты радовались тому, что Финляндия, маленькая страна с протяженной границей с Россией и небольшими вооруженными силами, стала её членом, и все говорили, что она представляет собой «кошмар» для российского руководства. Это «успех» в том смысле, в каком музыкант добивается успеха, продавая больше записей. Но НАТО существует (пока, во всяком случае) не для того, чтобы продавать музыку.
Но если вы когда-нибудь участвовали в работе комитета или рабочей группы любого рода, особенно международной, то вы знаете, что арифметическое увеличение числа членов приводит к геометрическому увеличению сложности. (И дело не только в количестве, но и в проблемах: так, две страны могут быть согласны друг с другом по одним вопросам, расходиться во мнениях по другим и яростно противостоять друг другу по третьим). На практике, как только организация достигает определенного размера, потенциал для разногласий становится фактически безграничным по отношению к ресурсам, которые имеются в наличии. Так исторически сложилось и с НАТО, даже при гораздо меньшем количестве членов. В 1999 году организация фактически перестала функционировать после нескольких дней косовского кризиса и управлялась на закрытых совещаниях горстки наиболее важных стран и генерального секретаря. В 2003 году развёртывание НАТО в Афганистане задерживалось, пока немецких парламентариев отзывали с хорватских пляжей, чтобы они одобрили участие своей страны в боевых действиях. И так далее.
Если бы НАТО всерьез предполагало, что поддержка Украины может привести к затяжной войне, и организовало бы её соответствующим образом, то сейчас всё могло быть иначе. Но подобные идеи не могли быть публично озвучены в Брюсселе, и участие НАТО в делах Украины до 2022 года представляло собой обычную неудобную смесь национального и институционального вмешательства, не имеющую внутренней логики или последовательности. Если реакция России вообще рассматривалась, то неизбежно сбрасывалась со счетов, поскольку внутренняя динамика организации была слишком мощной, и если бы НАТО прекратило расширяться, то вся его цель и будущее оказались бы под вопросом. Действительно, было немыслимо, чтобы НАТО прекратило расширяться только потому, что это не нравится русским. Кем они себя возомнили? В любом случае, Россия в то время не была приоритетом для Запада, а НАТО было занято тем, что пыталось сделать врага из Китая. В результате блок оказался институционально неподготовленным, и практическая поддержка Украины была либо чисто национальной, либо результатом специальной координации между заинтересованными странами. Украина просто иллюстрирует то, что многие утверждали в течение очень долгого времени: управление кризисом на масштабе фактически невозможно.
Но это лёгкая часть. По крайней мере, идет война, и основная ситуация (относительно) проста. Мы не знаем, как эта ситуация будет развиваться после Украины или даже во время того, что, вероятно, будет грязной и затяжной конечной фазой. Но маловероятно, что НАТО сможет внести большой скоординированный вклад, не ограничиваясь формальным маханием руками, не в последнюю очередь потому, что именно в этот момент национальные интересы начнут расходиться довольно серьёзно и пока неочевидным образом. Поражение повредит и даже уничтожит одни политические фигуры, партии и институты, — и укрепит другие. На ревущем неповиновении и эпической дури вы далеко не уедете. В какой-то момент придётся решать практические вопросы, а прошлый опыт подсказывает, что они принесут с собой множество непредвиденных и вызывающих разногласия проблем. Таким образом, НАТО ставит русских (у которых есть преимущество единственного участника) перед пустыми воротами. Ожидать, что они не будут бить по ним, было бы неразумно.
Несомненно, что-то будет сделано на уровне риторики. Будут собраны рабочие группы, будут разработаны новые стратегические концепции, и, возможно, они даже будут согласованы и опубликованы. Но они ничего не будут значить, потому что за ними ничего не будет стоять, потому что у Европы нет шансов на реальную согласованную стратегию, а значит, нет и представления о том, для чего в действительности будут нужны будущие силы НАТО. Автор уже много раз объяснял, почему не будет никакого «перевооружения» Европы, и сейчас не будет углубляться в эту тему. Максимум, на что можно надеяться, — это использование свободных мощностей существующих оборонных производителей (тех, что не в Китае) и возможное небольшое увеличение численности западных вооруженных сил, если удастся вложить в этот процесс достаточно денег и убеждения.
Но подождите, а как же превосходство западного оборудования? Ну, здесь мы должны понимать, что в целом западная техника весьма хороша для того, для чего она изначально была разработана. Итак, танки, которые были отправлены в Украину, были задуманы (а в некоторых случаях и построены) во время холодной войны, когда НАТО рассчитывало вести короткую и чрезвычайно интенсивную оборонительную войну и решило пытаться выиграть её с помощью меньшего количества высококачественного вооружения. Размеры и вес танков не были проблемой, поскольку они бы отступали по своим линиям коммуникаций, и им всё равно не пришлось бы продвигаться далеко вперёд. Несмотря на множество модернизаций и новых возможностей, современные западные танки происходят из этого фундаментального вида. Они были брошены в бой, для которого не были предназначены. Другие виды западной техники были разработаны специально для ведения войны низкой интенсивности, где вероятный противник (например, запрещённое “Исламское государство” или разрешённый уже “Талибан”) не будет иметь зенитных установок или артиллерии. Большая часть техники НАТО по своей сути не подходит для нынешних условий: в ближайшее десятилетие можно было бы разработать и начать применять новые виды техники, если бы (и только если) существовала последовательная серия доктрин и оперативных концепций высокого уровня, основанных на чётком стратегическом видении. И не нужно рассказывать, насколько это маловероятно.
Хорошо, но как насчет США и их «стотысячной армии в Европе?» Разве они не могут сдержать или даже победить русских? Что ж, давайте заглянем на официальный сайт американских войск в Европе. Как ни странно, он содержит огромное количество повседневной информации, множество фотографий и видеороликов, множество актуальных новостей, но почти ничего о реальных силах США, развернутых в Европе, кроме нескольких ссылок на штабы и части. И действительно, трудно найти какую-либо фактическую информацию о подразделениях и их численности на любом официальном сайте. Во многом это удивительно, поскольку такая информация редко бывает засекречена: в большинстве случаев она находится в открытом доступе. Может ли нам помочь Википедия? Ну, страница достаточно актуальна, так что же там говорится о наземных боевых частях? В Германии существует кавалерийский полк «Страйкер», который также называют бригадной боевой группой, численностью около 4000-5000 человек. Stryker — это легковооружённая и бронированная колёсная транспортная машина для перевозки пехоты, и подразделение состоит преимущественно из таких машин, с некоторыми более тяжеловооружёнными вариантами, а также с некоторыми элементами боевой поддержки. Данное подразделение — 2-й бронекавалерийский полк — было широко развернуто в Ираке, но не подходит для операций высокой интенсивности, таких как на Украине. В Италии находится 173-я воздушно-десантная бригада, состоящая в основном из парашютной пехоты, численностью около 3000-3500 человек. Она была широко задействована в Персидском заливе и Афганистане, а размещение в Италии, по сути, позволяет ей вернуться на Ближний Восток в случае необходимости. Против русских она не пригодится. В Германии также находится подразделение боевых и вспомогательных вертолётов размером с бригаду. И это всё, что касается наземных боевых частей.
Конечно, в Европе находится большое количество американских самолётов, в частности, в Раммштайне в Германии, а также небольшие подразделения в других местах. Большинство самолётов — истребители, и здесь мы сталкиваемся с более сложной версией проблемы, которую автор уже обсуждал (с проектированием танков). На протяжении всей холодной войны военно-воздушные силы НАТО должны были доминировать в воздушном пространстве над Западной Европой и тем самым помочь победить вторжение войск Варшавского договора. Предполагалось, что в начале войны ВВС стран Варшавского договора будут наносить обычные удары, в том числе по Британским островам и периферии континента. Отсюда вытекала необходимость в значительном количестве современных истребителей с превосходством в воздухе, предназначенных для борьбы с советскими аналогами.
Воевал ли бы так Советский Союз на самом деле, мы никогда не узнаем, но совершенно ясно, что русские не будут этого делать — и не делали в Украине. Российская доктрина, похоже, предусматривает использование авиации только после того, как превосходство в воздухе будет достигнуто за счёт применения наступательных и оборонительных ракет. В любом будущем конфликте можно предположить, что первые атаки будут включать массированные ракетные удары по западным авиабазам, от которых в настоящее время практически нет эффективной защиты. Уцелевшим самолётам фактически будет практически нечего делать, поскольку война, которая может последовать, — совсем не та, для которой они были предназначены. В любом случае, расстояние полёта от Раммштайна до, скажем, Киева составляет порядка 1500 километров, а до Варшавы — порядка 1000 километров, что соответствует опубликованной предельной дальности действия таких самолетов, как F35.
Поэтому было бы неразумно полагаться на американские силы, которые «придут на помощь» Европе в случае войны с Россией. Правда, подкрепления могут быть отправлены из самих США, но их безопасное прибытие не может быть гарантировано. В этом смысле США обладают гораздо меньшей боевой мощью в наземной/воздушной войне в Европе, чем, скажем, Испания, у которой, по крайней мере, есть сотни современных основных боевых танков. Ядерное оружие не имеет никакого значения для такого рода кризиса, а большой военно-морской флот Соединенных Штатов не сможет с пользой вмешаться в конфликт такого рода.
Но ведь вооруженные силы США насчитывают миллион человек, не так ли? Население страны составляет 350 миллионов человек, у нее есть военная промышленность и множество инженеров и ученых. Разве они не могут провести ремобилизацию так же быстро, как это было в начале Второй мировой войны? Что ж, мы вернулись к проблеме, которую автор обсуждал не так давно, — к магическому мышлению, когда вы можете смутно представить себе, каким может быть результат, но не имеете ни малейшего представления о практических шагах, необходимых для его достижения. Если предположить, как сказал бы экономист, всевозможные опции, то теоретически вероятно восстановить тяжёлую бронетехнику для армии США и перебросить ее в Европу.
Чтобы дать представление о том, о чём идет речь, в США на данный момент имеется одна бронетанковая дивизия, насчитывающая около 250 танков и около 500 средних и лёгких бронемашин. Трудно сказать, какого размера должны быть необходимые в военном отношении силы в Европе, да и вообще, что значит «необходимые» в этом смысле, потому что на Украине бронетанковые части очень редко сражаются друг с другом. Но на складах хранится много танков и бронемашин, и теоретически можно вернуть их в строй, модернизировать, оснастить всевозможным современным оборудованием, например, средствами защиты от дронов (если их можно купить), переобучить солдат, если это возможно, купить много новых машин поддержки, если они есть, купить огромное количество танковых боеприпасов, если их можно произвести, купить огромное количество запчастей и комплектующих, если их получится достать, организовать, укомплектовать и обучить совершенно новые дивизионные и бригадные командные структуры, разработать совершенно новые наборы доктрин и тактик, обучить и отрепетировать их, построить огромные лагеря размером с небольшой город где-нибудь в Европе (бронетанковая дивизия может легко насчитывать пятнадцать тысяч человек, плюс тыловые службы и семьи), а также огромные полигоны для отработки манёвров, учений и стрельб, вместе с огромными складами боеприпасов и ремонтными организациями, а затем перевезти все это в Европу и развернуть там. Но это, конечно, только половина дела, потому что во время холодной войны западные военные рассчитывали воевать не там, где они были развернуты в мирное время. Никто не имеет ни малейшего представления о том, где и как будут воевать будущие бронетанковые силы США в Европе, не говоря уже о том, как они туда попадут. Так что, возможно, лучше не желать того, чего у вас не может быть.
Что касается третьего пункта, то автор уже обсудил многие вопросы, затрагивающие Европу в неявном виде, поскольку они пересекаются с вопросами, затрагивающими НАТО. Не нужно больше настаивать на том, что идея «перевооружения» Европы — это фантазия. Но реальный вопрос будет заключаться в том, способна ли «Европа» вообще действовать как разумно единое целое в пост-украинском мире. Автор взял слово «Европа» в кавычки, потому что Европа Брюсселя и Политического союза существует как некий призрачный контрапункт к традиционной «настоящей» Европе стран, языков, культур, истории и традиций. На самом деле, как автор уже неоднократно объяснял, она была создана намеренно, чтобы похоронить якобы «разделяющие» вопросы под слоем надуманных либеральных клише о разнообразии, толерантности, свободном передвижении народов и т. д. и создать чисто транзакционный континент, где нет никакой лояльности или идентичности, кроме экономической.
Пока можно было утверждать, что проблемы европейской безопасности остались в прошлом, что Россия — слабое государство, нуждающееся в постановке на своё место, а Китай — не более чем экономический вызов, всё это было вполне осуществимо. Вооруженные силы Европы можно было свести практически к нулю, поскольку они использовались бы только в качестве миротворцев или временных силовиков в менее удачливых регионах мира. Высвободившуюся таким образом политическую энергию можно было бы использовать для того, чтобы не допустить неправильного выбора избирателей на выборах в ЕС, и наказывать их в этом случае.
Понятно, что такую идеологическую конструкцию невозможно «защитить» ни в каком реальном смысле, ни в политическом, ни в военном, поэтому доминирующий политический дискурс — это враждебность к России, а не лояльность к Европе. На самом деле, ничего такого нет: как автор уже неоднократно говорил, никто не собирается умирать за Евровидение или, тем более, за Европейскую комиссию или программу ERASMUS. Сейчас настал момент, когда европейские лидеры должны заново открыть для себя богатую историю и культуру Европы как нечто, что стоит охранять и защищать. Комиссия только что объявила о кампании стоимостью 10 миллионов евро, призванной подчеркнуть вклад ислама в европейскую цивилизацию.
Как и в случае с НАТО, машина по расширению ЕС грохотала, никому не давая понять, куда она движется, а в результате был создан огромный, неуклюжий, почти неуправляемый блок, в котором настолько много скрытых напряжений и исторических противоречий, что он не способен противостоять действительно серьезному кризису, не развалившись на части. И, боюсь, именно это мы и увидим. Иллюзия однородности и пост-исторического, пост-культурного, пост-политического европейского мировоззрения всегда была мифом за пределами раритетного, кровосмесительного мира самого европейского правящего класса. И в конечном итоге этот класс мало что связывает, — кроме неглубокой идеологии, бессмысленных политических и социальных клише, личных контактов и сопутствующего страха выйти за рамки этой идеологии и подвергнуться остракизму со стороны тех, с кем они обедают. В какой-то (не очень отдаленный) момент в будущем, когда звук затачиваемых вил нельзя будет ни с чем спутать, этот самый класс внезапно обнаружит, что лучше приспособиться, чем умереть. И трудно что-то сказать о результатах, — кроме того, что они вряд ли будут положительными.
Конечно, мы можем прибегнуть к стратегии принятия. Мы можем верить, что «кто-то контролирует ситуацию», потому что даже самые худшие варианты (сионисты, лондонский Сити, ЦРУ, Ватикан, Бильдербергский клуб) лучше, чем отсутствие контроля. Мы можем принять альтернативную стратегию преодоления, представляя себе некое возрождение европейской демократии с помощью неопределенных средств. Но на самом деле сейчас всё движется к ситуации, когда легкомысленная европейская учредительная идеология, скорее всего, распадётся под воздействием реальных событий, и страны окажутся с различными, а иногда и противоположными интересами, и политическим классом, который получил шлепок по харе мокрой рыбой реальности, не имея ни малейшего представления о том, что делать.
Нынешнее блеяние европейских лидеров основано на детской фантазии о том, что если вы откажетесь признавать что-то достаточно упорно, то оно исчезнет. Они цепляются за идею, что ещё один месяц боев, ещё одна ракетная атака, еще один раунд санкций — и Россия рухнет. Вместо того чтобы стать ответом на потенциальную российскую агрессию, растущие связи Украины с Западом стали причиной войны. Недоверчивая надежда европейцев в феврале 2022 года, когда они поверили, что российская кампания быстро провалится и Путин будет свергнут, сменилось холодным, болезненным осознанием величайшего внешнеполитического просчёта с 1945 года. Европейский правящий класс, по сути, не способен даже концептуально представить себе поражение или неудачу, и его медленно тащат в сторону реальности со скоростью маленького ребёнка, которого ведут — и приведут — на прием к зубному.
Пути назад нет. Этот же правящий класс, похоже, всё ещё верит, что может угрожать и диктовать условия Москве, и что русские сделают почти всё, чтобы добиться отмены санкций. Мысль о том, что именно Россия будет диктовать условия, едва ли начала проникать в мозговые центры даже самых продвинутых европейских мыслителей. Но почему Россия должна делать Европе подарки? Она будут доминировать в Европе в военном отношении, имея возможность уничтожить любой европейский город обычным оружием — при этом не опасаясь возмездия.
И Европа будет сильно раздосадована.
Автор не знает, что собираются делать русские, и пока сомневается, что они это сделают, но это точно будет не смешно. Действуют обычные правила международной политики: бей лежачего. Европа останется слабой и разделённой, неспособной нанести России ущерб военным путём, а Соединенные Штаты не смогут сделать многого, даже если у них будет желание. Историкам заката Европы, боюсь, придётся изобрести новый словарь, чтобы правильно описать беспричинное членовредительство, которому правящий класс Европы подверг своих граждан.